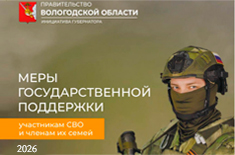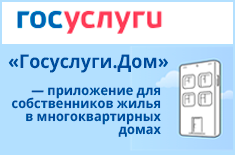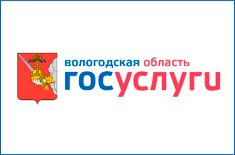- Главная
- новости
- новости компаний
- Афиша
- Сервисы
- Проекты
-
Череповец
- О городе коротко
- Всё о Череповце
- Проездные на общественный транспорт
- ЖКХ
- Открытый бюджет
- КУИ. Торги. Аукцион
- Глава города
- Контрольно-счетная палата
- Новости компаний
- Уведомления и объявления
- Практика жизни
- Городские управы
- Прием обращений граждан
- Территориальная избирательная комиссия города Череповца
- Прямые трансляции
- Мэрия Череповца
- Городская Дума